В поисках главного произведения XX века
Почему мы не можем найти единственный определяющий текст эпохи плюрализма?
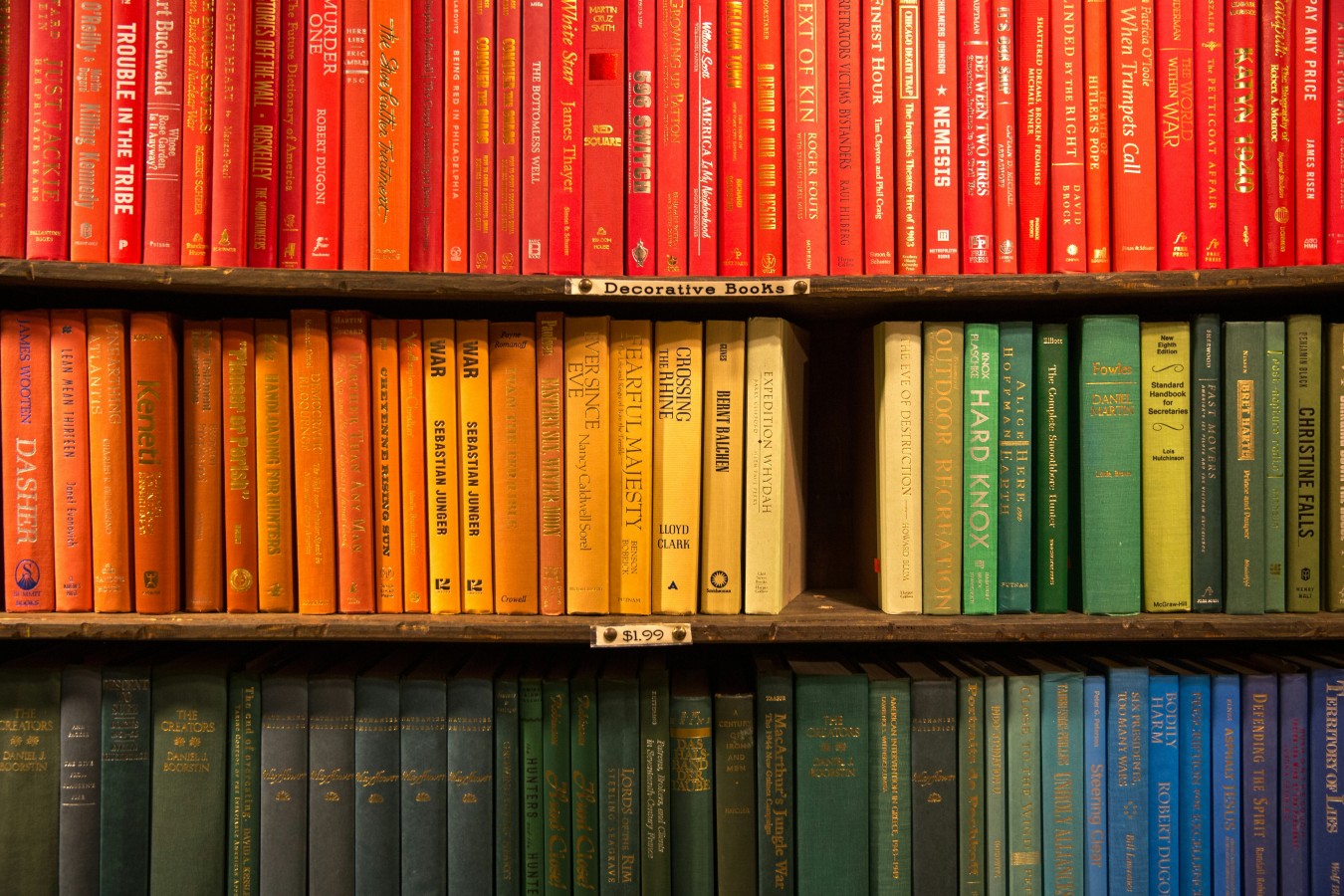
Недавно у меня была очень интересная дискуссия с одним знакомым, в которой разговор зашёл о том, какое произведение двадцатого века можно было бы назвать главным — причём речь шла не только о книгах, но и о любых других формах воспроизведения текста: фильмах, спектаклях, о чём угодно.
Признаюсь честно, этот вопрос поставил меня в тупик — вот так взять и сходу назвать подобное произведение не получилось. Если бы речь шла о девятнадцатом веке, можно было бы подумать о Ницше, Достоевском, Гёте или других значимых авторах, чьи работы, безусловно, определили дух эпохи. В более ранние периоды, в силу меньшего количества программных текстов, казалось бы, найти ответ ещё проще — достаточно вспомнить те немногие произведения, которые формировали мировоззрение целых поколений. А вот двадцатый век, с одной стороны, даёт огромное многообразие возможных вариантов, а с другой — в каждом варианте как будто бы чего-то не хватает, словно ни одно произведение не может вместить в себя всю сложность и противоречивость эпохи.
И как мне кажется, этот плюрализм и является меткой двадцатого века, его характеристическим свойством, которое делает саму постановку вопроса о "главном произведении" проблематичной.

Первые кандидаты: от Булгакова до Фрейда
Вначале у меня возникла мысль назвать "Мастера и Маргариту" Булгакова — произведение, которое, безусловно, стало культовым и определяющим для нескольких поколений читателей. Однако вскоре я понял, что это очень культурно обусловленный текст, который можно было бы назвать определяющим для нашей страны, для постсоветского пространства, но не для всего мира в целом, где этот роман, при всей его гениальности, остаётся скорее экзотическим артефактом советской/русской культуры.
Другая интересная мысль была насчёт работ Фрейда, чьё влияние на двадцатый век не стоит недооценивать. Как вы помните, я несколько раз на протяжении ряда эпизодов упоминал классификацию, которую дал Поль Рикёр трём авторам — "мастера подозрений": три мыслителя, разработавшие теории, которые поставили под сомнение истинность нашего восприятия, основанного во многом на христианско-либерально-гуманистическом базисе, поместив нас при этом на краю пропасти и сделав за нас шаг вперёд. Я говорю о Фридрихе Ницше, сомневавшемся в основах нашей морали "рабов", Карле Марксе, утверждавшем, что идеология и культура суть производные от экономики и классовых интересов, и Зигмунде Фрейде, сообщившем миру о влиянии бессознательных желаний и вытесненных воспоминаний на поведение и восприятие индивидов.
Последний, кстати, в 1900 году написал свою знаменитую книгу "Толкование сновидений", которая, в принципе, могла бы и подойти, ибо всё-таки формально уже XX век. Однако тут я опять задумался: можно ли психологическое произведение, пусть и революционное, расширить на всю популяцию людей? Ведь речь идёт об установочном произведении двадцатого века для человечества, а не для отдельных его групп, и в особенности для психологов, которые, конечно, видят во Фрейде основоположника своей дисциплины, но чьё восприятие вряд ли можно считать универсальным.
По этой же причине выпадают и книги Карла Густава Юнга — с большим уважением относясь к этому психологу и считая его идеи чрезвычайно глубокими и важными, тем не менее, я не могу не признать, что его книги — это не самое простое чтиво, требующее серьёзной подготовки и определённого склада ума, а потому назвать их установочными или описывающими всех и вся было бы достаточно сложно.
Неожиданный кандидат: "Властелин колец"
И тут мой собеседник предложил свой вариант ответа, который во многом мне нравится и который заставил меня серьёзно задуматься — "Властелин колец".
Действительно, в этом ответе сходится многое: и то, как Толкин писал эту книгу, десятилетиями создавая целую мифологию с языками, историей и космогонией; и структура ключевого нарратива, являющегося вариацией христианского мифа, но при этом достаточно универсальной, чтобы находить отклик у читателей разных культур; и феномен обычного человека, не героя, коим является Фродо Бэггинс — он не Гэндальф с его магической силой, не Элронд с тысячелетней мудростью и даже не Арагорн с королевской кровью, он обычный хоббит, маленькое существо, любящее комфорт и покой. И даже сам по себе жанр этого произведения — фэнтези, стал популярным именно в двадцатом веке, хотя какие-то провозвестники были и раньше.
Ответ, во многом, прекрасный, да и трилогия Питера Джексона, собравшая огромную кассу и получившая множество "Оскаров", не даст соврать, что "Властелин колец" действительно стал массовым произведением: эта вселенная вышла за пределы особой группы фанатов–ролевиков, которые до выхода фильмов были основными апологетами этого произведения, читая его на тайных собраниях и разыгрывая сцены из него.
Три причины, почему "Властелин колец" не подходит
Однако после размышления я всё-таки пришёл к тому, что несмотря на привлекательность этого ответа и множество аргументов в его пользу, он недостаточно хорош для того, чтобы я мог с ним полностью согласиться. А причин этому несколько, и каждая из них касается фундаментальных аспектов того, что должно представлять собой произведение, определяющее целую эпоху.
Традиционность нарратива
Структура нарратива "Властелина колец", при всей её мастерской проработке, — не уникальна для двадцатого века. Я крайне уважаю и это произведение, и крайне уважаю Толкина как филолога, мифотворца и писателя. Но всё же автор написал свою вариацию героического пути — мы видим простое, линейное, нарративное повествование от начала и до конца, где герой, как в классическом мономифе Кэмпбелла, получает вызов, встречает мудрого старца, находит помощников и так далее для того, чтобы совершить свой подвиг.
Эта структура с нами, с человечеством, последние пять тысяч лет, если не больше — от шумерского эпоса о Гильгамеше до греческих мифов, от средневековых рыцарских романов до Фауста Гёте. Конечно, Толкин адаптировал эту структуру на новый лад: это уже не классическое героическое произведение и не классический героический миф, где герой обладает сверхчеловеческими способностями. Но всё же это — новая обёртка для старого содержания, пусть и выполненная с невероятным мастерством. Может ли такой миф, при всей его универсальности, определять целое столетие, которое характеризовалось именно разрывом с традицией, поиском новых форм и отказом от линейности?
Христианство в постхристианскую эпоху
"Властелин колец" — это глубоко христианское произведение, что сам Толкин неоднократно подчёркивал в своих письмах. Я крайне позитивно отношусь к христианству и как к философско-этической системе, определившей развитие западной цивилизации, и как к религии, дающей миллионам людей смысл и надежду, да и профессионально изучаю его как теолог. Однако при всём при этом я не могу не признать, что фраза Ницше о том, что "Бог умер", весьма чётко отразила ключевую особенность конца девятнадцатого и всего двадцатого века: христианский Бог умер, потому что мы его убили, а мастера подозрений окончательно "забили гвозди в крышку гроба".
Сюжет Толкина — это христианский сюжет, в котором да, речь идёт о маленьком (буквально маленьком) человеке, о хоббите, но всё же не только силами этого человека достигается спасение. Посмотрите, сколько раз Илуватар (Бог в мире Толкина) вмешивается непосредственно в сюжет, направляя события соответствующим образом.
Во-первых, он воскрешает Гэндальфа после его схватки с Балрогом, ибо кто ещё это мог сделать, если не он? Во-вторых, вспомним знаменитых орлов — классический deus ex machina: орлы, которые спасают Фродо и Сэма из Мордора после уничтожения Кольца, орлы, которые не подчиняются никому из смертных или даже бессмертных обитателей Средиземья. По сути, это — вестники Илуватара, его прямые агенты в мире. Почему я так считаю? Потому что если бы ими кто-то управлял, например, тот же Гэндальф, то "Властелин колец" мог бы закончиться примерно за пять-десять страниц: Серый волшебник прямо из Шира вызвал бы этих орлов, и на них герои быстренько полетели бы к Ородруину, быстренько сбросили бы кольцо в жерло вулкана, да и дело с концом.
(На это даже снят замечательный ролик в серии "How It Should Have Ended" на YouTube, где показывается, как фильмы должны были бы закончиться логично, и именно этот сюжет там обыгрывается с юмором, но и с пониманием внутренней логики произведения.)
В общем, орлы не подчиняются Гэндальфу и никому из живых существ именно потому, что с их помощью всё могло бы закончиться существенно быстрее, что разрушило бы весь замысел повествования. Орлы подчиняются только кому-то, кто выше всего этого мира, то бишь Илуватару, и появляются только тогда, когда их миссия не нарушит свободную волю обитателей Средиземья.
И вот в чём фокус: если бы христианский Бог был жив в сознании людей двадцатого века, можно было бы сказать, что да, это интересная аллегория на великую историю Христа, способная отразить суть эпохи. Но христианский Бог в конце девятнадцатого века "умер" в философском смысле — Он перестал быть определяющей силой в жизни большинства людей западной цивилизации. И назвать главным произведением века то, которое использует и активно продвигает христианский сюжет в мире, в котором этот Бог "умер"... Да, такое может быть как ностальгия по утраченному. Да, это может быть некий плач по умершему Богу, попытка воскресить его в новой форме. Да, это может быть произведение для определённой группы лиц, сохранивших веру или тоскующих по ней, но это не может быть установочное произведение для всех в эпоху, которая характеризовалась именно отходом от традиционной религиозности.
Что должно быть в главном произведении XX века?
Если мы хотим найти произведение, которое действительно может задать весь двадцатый век, оно не может быть, к моему великому сожалению, чисто христианским (несмотря на мою любовь к оному), и оно не может быть структурно идентично всем древним произведениям, ибо оно должно характеризовать ключевые изменения прошлого века, весь его плюрализм, всю противоречивость, всю сложность, в особенности в контексте тех вызовов, которые встали перед человечеством.
Это не может быть и абсолютно негативное произведение, погружённое в нигилизм и отчаяние. Можно было бы сказать, что в двадцатом веке ярко проявился негативный экзистенциализм — те же Сартр и Камю с их размышлениями об бессмысленности и абсурде. Да, всё это было, есть и будет важной частью интеллектуального ландшафта. Но это тоже всего лишь одна грань того, что действительно характеризовало эпоху — эпоху не только разрушения старых смыслов, но и отчаянного поиска новых.
При этом я не могу не согласиться с несколькими важными элементами "Властелина колец", которые, как мне кажется, должны присутствовать в главном произведении двадцатого века, если таковое вообще существует или может существовать.
Обычный человек как герой
Речь должна идти об обычном человеке и его проблемах, о том, как индивид справляется с вызовами, которые превосходят его силы. Это важно, потому что та самая желанная свобода, которой человечество добивалось тысячелетиями, наконец-то оказалась перед нашими ногами — но вместе с ней пришла и ответственность, и экзистенциальная тревога, и необходимость самому определять смысл своего существования. Наконец-то подвиги, равно как и возможность просто "жить", стали уделом не какого-то полубога или героя-потомка богов, но обычного человека, который, словами Кэмпбелла, борется с коллективными установками, но также и с самим собой, со своими страхами и ограничениями.
Фантастика или фэнтези как жанр
Я соглашусь с тем, что произведение должно быть скорее фантастической или фэнтезийной направленности, потому что именно эти жанры позволяют создать необходимую дистанцию для рассмотрения фундаментальных вопросов человеческого существования. Почему? Да потому что именно в двадцатом веке эти жанры "расцвели" — от Уэллса, Верна и Толкина через Азимова и Хайнлайна к Ле Гуин и Дику. Да, можно найти какие-то отголоски и ранее, но всё же период расцвета оных — именно двадцатый век: вымышленные вселенные, полёт фантазии, бесконечная креативность и бесконечность создаваемых миров как литераторами, так и режиссёрами, являются характерной особенностью того времени, когда реальность стала слишком сложной и противоречивой, чтобы говорить о ней напрямую.
Поиск нового спасения
Третий момент, который, как мне кажется, характерен для двадцатого века, можно было бы выразить названием книги Виктора Франкла — "Человек в поисках смысла", притом во многих аспектах. Но я позволю себе сделать ещё один шаг вперёд и уточнить — человек не только в поисках смысла, но также и в поисках спасения. Причём уже не христианского спасения, ибо то спасение уже не работает для большинства, оно было разрушено критикой разума и ужасами истории. Но сама идея спасения всё ещё жива и здравствует, трансформируясь в различные формы — от политических утопий до психотерапевтических практик.
Человек не может спасти себя сам — эта истина остаётся неизменной. Лучше всех, по моему мнению, это описал Юнг, говоря о том, что только через идею уничижения эго, через его трансцендирование, через движение к Самости, человек способен достичь целостности и индивидуации, тем самым разрешив внутренний конфликт между сознательным и бессознательным. Это были бы действительно великие слова и великое учение, если бы только его могли понять чуть больше, чем, по словам Баумейстера, "небольшая секта интеллектуалов", готовых погружаться в сложные психологические концепции.
Эпоха без главного текста?
Идея спасения, как мне кажется, — вот ключевой посыл двадцатого века, но спасения неочевидного, требующего поиска. Люди, чья картина мира зиждется на крайне шатком фундаменте — если вообще то, что осталось от их идеологии после всех потрясений века, можно назвать фундаментом, — начали бросаться в крайности: от коммунизма до фашизма и нацизма, от демократии до авторитаризма, от хиппи к яппи, от традиционализма к постмодернизму. Как и раньше, человек устремился к границам (по Тёрнеру), но вот ведь парадокс: настоящих географических границ практически не осталось, и фронтир переместился внутрь — в сознание, в виртуальные миры, в биотехнологии.
А людям, особенно пытающимся разобраться, что к чему в этом хаосе, границы нужны — им нужен смысл, ну или хотя бы его поиск, ведь они остро ощущают потребность в том, чтобы их жизнь была чем-то большим, чем просто существование мешка с костями, подчиняющегося биологическим императивам. Но вот беда — самостоятельное спасение невозможно, если вы, конечно, не барон Мюнхгаузен, могущий вытащить себя за волосы из болота (хотя и эта метафора проблематична с точки зрения физики). Нам нужен кто-то или что-то, что даст нужную точку опоры, после которой мы уже и сами сможем, по слову Архимеда, повернуть Землю. Но вот где это взять в эпоху, когда все традиционные авторитеты подвергнуты сомнению? Честно говоря, я не знаю.
А потому у меня и нет хороших ответов на вопрос о том, какое литературное произведение является установочным в двадцатом веке. Возможно, такого произведения просто не существует — и это само по себе характеризует дух эпохи, где доминация главных мета-нарративов уступила место множественности интерпретаций, где каждая группа, каждая субкультура, каждый индивид может найти своё собственное "священное писание". А быть может, оно всё-таки существует, но мы ещё не сумели это понять, не имеем достаточной временной дистанции, чтобы увидеть, какое именно произведение действительно схватило дух времени.
Поживём — увидим.